Как мы повредили озоновый слой и какое это имеет значение для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым.
— Расскажите, пожалуйста, как началась ваша научная карьера и что привело вас к исследованиям озонового слоя и его влияния на климат Земли?
— Моя карьера стартовала с моделирования атмосферных процессов под руководством одного из ведущих климатологов страны, Игоря Леонидовича Кароля. В 80-е годы прошлого века мы вместе работали над двумерной моделью атмосферы. В 1993 году, благодаря научным связям профессора Кароля, в Санкт-Петербург приехал Пол (Пауль) Крутцен, известный исследователь озонового слоя и будущий лауреат Нобелевской премии. Это стало замечательным обменом научными идеями, в ходе которого у нас возникли активные споры, и в итоге Пол пригласил меня поработать вместе в Институте Макса Планка.
В ходе его визита мы установили нашу тогда еще двумерную модель для химии и переноса примесей и провели расчеты состояния озонового слоя во время последнего ледникового максимума. Результаты обсуждались столь же активно, и Пол убедил меня, что двумерный подход недостаточен, так как он не учитывает атмосферные волны и динамические процессы переноса. Нам необходима трехмерная модель, способная учесть всю сложность процессов, влияющих на климат. Я был вдохновлен этой идеей и вернулся в Россию, чтобы заниматься трехмерным моделированием в своем институте (Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова. — прим.ред.). К сожалению, время было непростое, финансирование сократилось, и в определенный момент научные работы фактически остановились.
Передо мной встал вопрос: либо перейти в бизнес, либо искать возможности продолжения работы за границей. Я попробовал себя в бизнесе, но это направление не вызвало у меня интереса. Поэтому, когда поступило предложение из Университета Иллинойса присоединиться к группе профессора Майкла Шлезингера, я решил согласиться. Шлезингер был известным климатологом и имел связи со многими выдающимися учеными, в том числе с Сюкуро Манабе, недавно получившим Нобелевскую премию, и Михаилом Ивановичем Будыко — выдающимся российским климатологом, о котором говорили, что он также заслуживал этой награды. Будыко обладал уникальным талантом, и его очень уважали за способность интуитивно понимать климатические процессы.
Работа с трехмерной климатической моделью в группе профессора Шлезингера позволила учитывать влияние солнечной радиации, вулканических извержений и других ключевых факторов. Без озона в модели мы бы никогда не смогли увидеть, как солнечные и вулканические процессы влияют на климат. Эти исследования стали основой моего будущего научного пути и укрепили мою уверенность в том, что детальное моделирование необходимо для понимания процессов, определяющих состояние климата Земли.
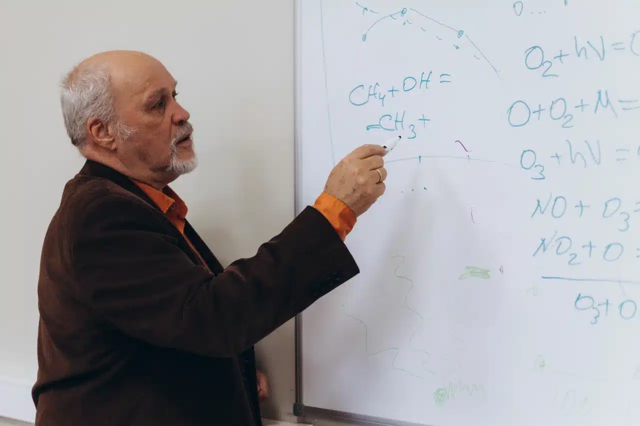
— Вы утверждаете, что ваш вклад в знаменитый доклад IPCC был скромным. Тем не менее, этот доклад получил Нобелевскую премию, а вы были его рецензентом. Расскажите о вашем участии в этом проекте и почему вы считаете этот доклад важным?
— Хотя я действительно присоединился на этапе рецензирования, работа над докладом оказалась для меня бесценным опытом. Мне пришлось изучить тысячи страниц документации и обсуждать тончайшие научные аспекты с представителями различных дисциплин. Доклад IPCC 2007 года стал важной вехой, так как именно тогда возникли серьезные сомнения относительно глобального потепления. Группа экспертов впервые обоснованно заявила, что потепление началось еще с 1970-х годов и что, вероятнее всего, его причиной является увеличение парниковых газов в атмосфере.
Работа над докладом научила меня важности международного сотрудничества в науке. Это был переломный момент: для того чтобы добиться доверия общества, необходима поддержка ученых со всего мира, представляющих разные университеты и специализации. Я научился обсуждать сложные темы, искать компромиссы и решения, которые удовлетворяли бы всех участников. В наши дни одиночные исследования становятся невозможными, и роль личности в науке заключается в организации большого коллектива. Это понимание привело меня к участию в международных проектах, таких как проект Всемирной метеорологической организации по оценке разрушения озонового слоя, где я выступил одним из авторов.
— Как вы оцениваете вклад российской науки в международные научные проекты и программы, такие как Радиометрический центр в Давосе? Как бы вы описали различия в научных культурах России и Запада?
— Вклад российских ученых в международные исследования всегда был значительным. У нас много данных, отличные специалисты и обширные территории для наблюдений. Например, одно из моих совместных исследований касалось влияния солнечной активности на климат, и я старался быть связующим звеном между российской и зарубежной наукой.
Что касается различий, они действительно существуют. За границей научное общение в большинстве областей более открытое и частое, чем в России. В Европе принято обращаться к коллегам, делиться идеями и результатами. В нашей стране долгое время в культуре научной работы ценился принцип «все делать самостоятельно», и это до сих пор заметно. Тем не менее, мои коллеги в России идут навстречу изменениям, и мы стали гораздо ближе к международным стандартам взаимодействия.
Однако текущая геополитическая ситуация значительно затрудняет научное сотрудничество. Например, во многих европейских странах запрещено любое взаимодействие с российскими учеными, что, на мой взгляд, является серьезной ошибкой. Наука должна оставаться вне политики — таковы принципы, на которых основывается международное научное сообщество. На уровне личного общения ученые открыты и заинтересованы в совместной работе, и это важно сохранить, несмотря на давление со стороны политиков.

«Мы работаем с цифровым двойником планеты»
— Что произошло с проблемой озонового слоя? Раньше она была на слуху, а затем исчезла из поля зрения. Какова текущая ситуация?
— Проблема озонового слоя никуда не исчезла, но произошли некоторые положительные изменения. Озон долгое время считался стабильной частью атмосферы, но начиная с 1980-х годов его содержание стало существенно снижаться, особенно после открытия озоновой дыры над Антарктидой в 1985 году. Это создавало серьезную угрозу, поскольку озон защищает нас от ультрафиолетового солнечного излучения, избыточное воздействие которого может вызывать рак кожи и проблемы с глазами.
Общество объединилось для решения этой проблемы, и был принят Монреальский протокол, который ограничивает производство фреонов — веществ, разрушающих озон. Озоновый слой начал восстанавливаться, и к 2000-м годам стабилизация достигла заметного уровня. Однако говорить о полном восстановлении пока рано. Кроме того, мы обнаружили рост выбросов фреона-11, который, согласно некоторым отчетам, не производится. Это означает, что мы должны постоянно следить за озоновым слоем, чтобы предотвратить его необратимые изменения.
Тем не менее, с тех пор экологическую повестку стали доминировать вопросы глобального потепления. Глобальное потепление стало основной темой, и озоновый слой частично отошел на второй план.
— Каковы основные проблемы и вызовы в моделировании озонового слоя и его влияния на климат?
— В моделировании озона остается ряд нерешенных вопросов. Например, почему концентрация озона в тропических и умеренных широтах продолжает снижаться в нижней стратосфере? Существует гипотеза, что йодсодержащие вещества, образующиеся в верхних слоях океана, разрушают озон, но это требует дополнительных доказательств. Также на озон влияет увеличение числа ракетных космических запусков, которые выбрасывают в атмосферу вещества, разрушающие озон. В будущем возможно достижение «сингулярности», когда количество запусков превысит разумные пределы.
Кроме того, воздействие лесных пожаров также требует изучения. Недавние пожары в Австралии и К